 Накануне визита в Испанию президент России Дмитрий Медведев дал большое интервью представителям телерадиокомпании «Тэ-Вэ-Е» и газеты «Паис». Среди множества заданных главе государства вопросов был и касающийся коррупции и борьбы с ней в сегодняшних кризисных условиях. Ответ президента был обстоятельным и подробным, хотя и адресованным испанской журналистке, а не собственным гражданам, лишенным возможности спросить у него об этом лично.
Накануне визита в Испанию президент России Дмитрий Медведев дал большое интервью представителям телерадиокомпании «Тэ-Вэ-Е» и газеты «Паис». Среди множества заданных главе государства вопросов был и касающийся коррупции и борьбы с ней в сегодняшних кризисных условиях. Ответ президента был обстоятельным и подробным, хотя и адресованным испанской журналистке, а не собственным гражданам, лишенным возможности спросить у него об этом лично.
«Вы знаете, есть две модели поведения в этой ситуации: можно расслабиться и признать своё поражение, сказав: «Вы знаете, мы с этим явлением в России боремся столетиями и никак победить его не можем. Ну и пусть оно само по себе как-то существует». А можно что-то пытаться делать. Я выбрал второй вариант, - сказал Медведев. - Причём когда я принимал решение о том, чтобы заняться борьбой с коррупцией, я слышал ведь разные вещи – мне говорили: «Зачем ты это делаешь? Всё равно же ты не сможешь достичь результата ни за год, ни за два, всё равно взятки будут брать, всё равно будут проблемы, всё равно будут всякого рода незаконные сделки совершаться».
Всё это правильно и наверное, так и будет. Но когда мы что-то делаем, мы даём прямой сигнал обществу, что мы всё равно этим занимаемся, мы всё равно пытаемся сузить это пространство, мы всё равно кого-то хватаем за руку, мы всё равно показываем, что в ряде случаев наказание сработает – рано или поздно наступит ответственность. И это всё-таки создаёт несколько иную атмосферу, хотя бы в том даже, что мы сейчас говорим о том, что идёт вот эта борьба с коррупцией. И все говорят: «Да, идёт, но вяло, не получается чего-то». Но хуже было бы, если бы вообще ничего не происходило. Поэтому я считаю, что общество всегда должно давать ответ на такие вещи, и государство должно принимать решение.
Что же касается законов, то у меня тоже нет никаких иллюзий. Те законодательные акты, которые мы приняли, они тоже будут работать лишь в определённой мере. Но всё-таки (я Вам могу сказать откровенно) это те законы, которых ждали, наверное, лет 10–12, потому что само понятие «коррупция», оно ведь до последнего времени в законодательстве отсутствовало. И только вот эти последние законы создали правовую основу для этого. Эти законы ввели и целый ряд новых институтов, весьма любопытных и нехарактерных для нашей правовой системы. Мы теперь привлекаем к ответственности за коррупцию не только должностных лиц, но и компании, юридические лица, к административной ответственности, если установлены соответствующие факты. Мы стимулируем государственных служащих к правильному поведению, к тому, чтобы декларировать доходы, к тому, чтобы предотвращать так называемый конфликт интересов. Если у государственного служащего возникает такой конфликт, государственный служащий обязан заявить об этом открыто и публично, и тогда как бы у него есть возможность этот конфликт разрешить юридическим образом. Если он этого не делает, то он уже совершает коррупционный акт. Это внутренняя мотивация к тому, чтобы не совершать подобных поступков.
И там масса самых разных, других важных норм, в том числе, кстати сказать, и вопросы декларирования доходов и имущества членами семьи чиновников. Мы об этом много говорили, но этого не было. Впервые в следующем году члены семей государственных служащих должны будут декларировать свои доходы. Это тоже очень важно. Наверное, это не сработает в части случаев, наверное, можно себе представить элементарную ситуацию, когда часть доходов или часть имущества будет переписана на каких-то дальних родственников, но это уже всё-таки будет делаться вопреки законодательству.
Поэтому я считаю, что любые действия, направленные на предотвращение коррупции, любые действия по оформлению правил в этой сфере, они уже содержат в себе положительный потенциал. Это как бы знак от государства, что является приоритетом»…
А между тем, в последнем докладе неправительственной организации «Transparency International» в очередной раз был рассчитан так называемый «индекс взяточничества» (Bribe Payers Index), который показывает, насколько велика вероятность того, что компании из той или иной страны будут давать взятки за рубежом при экспорте своей продукции. России в итоге был присвоен низший балл – 5,9 из десяти возможных. Это означает, что среди 22 ведущих мировых государств-экспортеров наша страна имеет худшие показатели.
В выводах, которые подытожили доклад, властям России рекомендовано в кратчайшие сроки ратифицировать Конвенцию Организации Экономического Сотрудничества и Развития по борьбе с подкупом государственных иностранных чиновников при осуществлении международных сделок. Документ предусматривает, что страна-участник устанавливает уголовную ответственность за получение взяток иностранными чиновниками.
Опрос в России был проведен среди менеджеров 2,5 тысяч крупных компаний, которых спрашивали об известных им случаях взяточничества и «неформальных практиках» ведения бизнеса. Комментируя полученный результат, руководитель российского центра «Transparency International» Елена Панфилова призналась: «Что касается российского бизнеса, то никакой новости в его месте в «индексе взяткодателей-2008», пожалуй, нет. В предыдущих исследованиях BPI он также получал не самые высокие оценки. Вряд ли можно утверждать, что за последние несколько лет в практике ведения бизнеса в России что-либо кардинально изменилось».
В то же время Панфилова отметила позитивную тенденцию - впервые за много лет российская власть начала обращать внимание на проблему коррупции, в результате чего во второй половине прошлого года правительством была разработана «Программа противодействия коррупции». Также, по ее словам, выросло внимание к этим проблемам во всем российском обществе в целом.
Интересные для сравнения факты приводит «Новая политика»: в США за дачу и получение взятки положен штраф в сумме тройного размера взятки, или лишение свободы до 15 лет. Оба наказания могут быть по решению суда совмещены. В Канаде госслужащий, занимающий должность в суде или в законодательном органе власти, за одно лишь согласие получить материальные и иные блага в обмен на совершение определенного действия или попустительства такому действию может сразу получить до 14 лет тюремного заключения. А что у нас?
У нас депутаты Госдумы, представляющие парламентское большинство, при прохождении через парламент антикоррупционного пакета законов грудью встали за норму закона о максимально допустимой цене подарка, который могут принимать государственные чиновники. По их мнению, взятка до определенной суммы – не взятка, а вполне допустимый презент.
И в этой обстановке некоторые эксперты заговорили о том, что коррупцию уменьшит кризис. Так, например, главный экономист ИК «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков считает, что с удешевлением нефти, приводящем к уменьшению притока «легких денег» в экономику, будет сокращаться и число желающих дать взятку. Поэтому 2009 год может улучшить показатели России в рейтинге восприятия коррупции, который составляет «Transparency International».
Ряд других экспертов, напротив, утверждает, что проблемы, возникшие у граждан в связи с кризисом, – не повод для чиновников умерить свои аппетиты. И то, что происходит вокруг, говорит в их пользу. Один из последних примеров: экс-министр сельского хозяйства Алексей Гордеев предложил ввести квоты на яйца и мясо кур. То есть чиновники Минсельхоза будут решать, какая из отечественных птицефабрик, сколько бройлеров и сколько яиц может произвести. Аргументировалась необходимость такого шага весьма фантастически: нельзя, чтобы падала цена на мясо кур и яйца, из-за чего те же самые производители могут понести убытки.
«Введение квот необходимо для того, чтобы не создавать проблему перепроизводства, чтобы не было падения цен и не лихорадило наших производителей», – утверждал бывший министр. И по мнению экспертов, дело вовсе не в плохой осведомленности Гордеева, так как цены на мясо кур и яйца не падают, а повышаются, а в том, что введение квот окажется выгодно не сельхозпроизводителям, а сельхозчиновникам, которые будут эти квоты распределять. Известно, что любые запретительные акты несут в себе мощную «коррупционную составляющую». А распределение искусственных квот – золотое дно для сотен нечистых на руку чиновников.
Как утверждает вице-президент объединения малого и среднего бизнеса «ОПОРА России» Владислав Корочкин, коррупционные издержки у малого бизнеса сегодня составляют 6,5% от выручки. Однако «узаконенные изъятия», уверяет он, растут с каждым годом. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов выражается еще резче: «За последнее время коррупция стала системой государственного управления». По его мнению, надежды на то, что коррупцию победит кризис, безосновательны: «Если в Москве, по данным МВД, в начале прошлого года отмывалось где-то порядка 100 миллионов долларов в день, то сейчас отмывается порядка 200-250 миллионов долларов в день».
Новой питательной средой для взяточничества, по мнению поддерживающих эту точку зрения экспертов, становятся финансовые вливания из бюджета в рамках антикризисных мер. Эти вливания, при отсутствии общественного контроля, будут провоцировать коррупцию, уверены они.
Об этом, кстати, говорил недавно и президент Дмитрий Медведев, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры. На заседании, помимо ежегодного обсуждения итогов деятельности прокуратуры, говорилось о борьбе с коррупцией и обеспечении прав граждан в период экономического кризиса.
Также шла речь о контроле над выделяемыми государством деньгами и защите интересов тех, кого работодатели попытаются незаконно уволить или оставить без заработанных денег.
Проблему борьбы с коррупцией Дмитрий Медведев назвал одной из главных. По его словам, когда Россия переживает последствия экономического кризиса, а государство выделяет миллиарды для поддержания экономики, особенно важно провести анткоррупционную экспертизу законодательства.
«Как мне доложили, уже сейчас установлены акты, в которых содержатся коррупционные риски. Таких актов более 10 тысяч. К этому процессу нужно относиться здраво, нужно выявлять наиболее существенные риски, но если все-таки такие позиции определены, эту ситуацию нужно незамедлительно исправлять. Такие акты должны подлежать отмене, и если эти акты еще на стадии разработки и принятия, то по ним должно быть принято решение об их отклонении» - заявил президент, выступая на заседании коллегии.
По словам юристов, в российском законодательстве есть много лазеек для нечистых на руку чиновников. И никакие антикризисные меры просто не могут эффективно работать, когда взятка зачастую - единственный ускоритель процесса. Анатолий Кучерена, юрист, член совета при Президенте по противодействию коррупции, отмечает: «Такие подзаконные нормативные акты, конечно же, дают возможность госслужащему или муниципальному служащему намекать или в открытую говорить: «Пока ты не заплатишь, мы это не решим, поскольку, ты видишь, какой сложный путь надо пройти. Есть закон, есть подзаконный нормативный акт, пока ты это не сделаешь, мы ничего тебе подписать не можем. Но у нас есть другая возможность. Не надо ходить, не надо это все собирать, мы сами сделаем, но это будет стоить денег».
Самые серьезные коррупционные риски, говорили на коллегии генпрокуратуры, в муниципальных законах. Причем, проблемы еще и в тех, кто их пишет. Дмитрий Медведев отметил в этой связи: «На уровне муниципалитетов, к сожалению, есть проблемы и с самими законодателями, и с муниципальными менеджерами. Очень часто туда проникают люди, которые не нашли себя в другой сфере. И если на уровне субъекта федерации на федеральном уровне такие лица не появляются, то там количество таких граждан довольно высокое. И нужно сделать все, чтобы их оттуда выставить. Криминальные элементы, авторитеты и авторитетики местного масштаба не должны находиться в местных органах власти. А их там довольно достаточное количество».
Эксперты приводят и другие примеры того, как под сурдинку антикризисных мер более или менее успешно делаются попытки ввести некие «взяткоемкие» законодательные акты местного значения. Чего стоит, например, желание потребовать у граждан, получающих временную регистрацию по месту пребывания в столице, выписки из реестра арендного жилья. Аналитики сразу начали подсчитывать не суммы налогов, которые необходимо будет заплатить за сдачу жилья в аренду, а суммы подношений за отсутствие названного документа. К счастью, Федеральная миграционная служба выступила против сомнительного нововведения.
О том, что за возможность брать взятки и получать откаты отечественное чиновничество будет стоять до конца, говорит судьба антикоррупционных законов, с трудом проведенных Кремлем через парламент. «Первый раунд борьбы с коррупцией Россия проиграла, коррупционеры одержали достаточно убедительную победу», – констатирует депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Геннадий Гудков. «По большому счету закон о борьбе с коррупцией превратился в декларацию, – считает он. – Тем не менее, даже такая редакция закона, лучше, чем ничего, поскольку мы боремся с самым мощным, сплоченным, не брезгающим никакими средствами противником».
А ведь принятые законы нужно еще и исполнять. Вот где широкий простор для саботажа. Это подтверждает, например, недавняя история создания региональных законов о развитии и поддержке малого и среднего бизнеса. Вот что говорит занимавшийся исследованиями по данному вопросу руководитель направления Национального института системных исследований проблем предпринимательства Алексей Шестоперов: «Не секрет, что все бремя регулирования создатели федерального закона перенесли на региональный уровень: все полномочия, все ресурсы регулирования – все передавалось регионам. У региональных властей появлялись пространство для маневра и некая свобода действий. Увы, большинство законов, принятых на региональном уровне, оказалось хуже, чем федеральный закон. Они принимались «для галочки». Региональные чиновники заботились в основном о том, чтобы им было в дальнейшем удобнее по этим законам работать».
При отсутствии общественного контроля за различными этажами властной вертикали и наличии возможности скрывать истинное положение дел с коррупцией реальный смысл обретает старая шутка: чем дальше в лес, тем толще партизаны…Так что в последнем месте России в «Индексе взяткодателей», составленном Transparensy International, ничего удивительного нет.
Есть ли надежда на то, что ситуация изменится в лучшую сторону? После избрания Дмитрия Медведева президентом России прошел ровно год. Но судя по его интервью испанским СМИ, в борьбе с коррупцией за это время страна почти не продвинулась …
Комментируя ситуацию в беседе с МиК, глава российского представительства Transparensy International Елена Панфилова отметила:
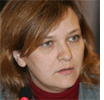 - По итогам этого года можно сделать и хорошие и плохие выводы. Хотя год с того момента, как Медведев пришел к власти, надо отсчитывать не со дня, когда он был избран президентом, а с 18 мая – когда он вступил в свою должность и провозгласил борьбу с коррупцией в качестве своего приоритета. После этого был создан Совет по противодействию коррупции, заработали экспертные группы, и что-то в этом направлении начало готовиться.
- По итогам этого года можно сделать и хорошие и плохие выводы. Хотя год с того момента, как Медведев пришел к власти, надо отсчитывать не со дня, когда он был избран президентом, а с 18 мая – когда он вступил в свою должность и провозгласил борьбу с коррупцией в качестве своего приоритета. После этого был создан Совет по противодействию коррупции, заработали экспертные группы, и что-то в этом направлении начало готовиться.
И я хочу сказать, что какие-то результаты в этой сфере вообще можно ощутить очень нескоро. Наша организация существует около 10 лет, мы начали функционировать в 1999 году, и все эти годы мы говорили о коррупции, о необходимости бороться с ней. Но в этой сфере ничего не делалось. Хотя наличие этой проблемы признавали многие. Но делаться что-то начало только сейчас.
И сейчас об итогах того, что задумал Медведев и к чему он призывает, говорить вообще очень рано. Я помню, как недавно меня стали спрашивать, спустя несколько месяцев после того, как были приняты поправки в антикоррупционное законодательство, каковы результаты применения этих законов. Но несколько месяцев – это вообще не срок. Ведь для того, чтобы заработал любой закон – нужен год, два, три, не менее. Это вам скажет любой юрист.
А борьба с коррупцией связана с изменениями в той бюрократической системе, которая существовала долгие годы, но она слишком инерционна и неповоротлива, чтобы поддаться каким-то изменениям. И слишком велико сопротивление чиновников, которые никаких изменений не хотят.
И я не расцениваю то, что он сказал в интервью испанским СМИ, как признание его разочарования в этой борьбе. Он правильно сказал, что самое главное – вообще начать что-то делать в этой сфере, потому что, как я уже сказала, в течение тех лет, сколько наша организация работала в России, в этой сфере не делалось вообще ничего. И то, что удалось принять какие-то решения, пусть далеко не полные и не всеобъемлющие, но это все-таки серьезные изменения, с которыми чиновникам придется считаться, я считаю успехом. И это, конечно, плюс.
Есть и другие заметные подвижки в этой сфере. Так, например, активизировался такой распространенный на Западе жанр, как журналистские расследования, посвященные коррупционным делам. Как мы видим, таких публикаций в последнее время появляется все больше, и это, на мой взгляд, перспективное направление деятельности, так как публичность в этой сфере – очень важная вещь. Она напрямую влияет на то, чтобы то или иное преступление в сфере коррупции было расследовано и не замалчивалось.
Также активизировались общественные организации. Они ведут свой мониторинг, публикуют экспертные данные, проводят пресс-конференции.
А минус заключается в том, что как мне кажется, Медведев не ожидал, что организовать эту борьбу будет так трудно, что будет такое сопротивление, хотя об этом никто не говорит открыто, и все как бы согласны с тем, что с коррупцией надо бороться. Он понял, что борьба будет долгой, и принесет свои результаты далеко не сейчас. И поэтому он и акцентировал внимание на том, что главное - вообще что-то начать сделать в этой сфере, обозначить саму проблему, принять хоть какие-то решения.
В то же время меня очень удивило его выступление на коллегии Генпрокуратуры. Он призывал прокуроров активизировать борьбу с коррупцией и другими преступлениями. Но разве это не прямая задача прокуратуры? Почему президент должен призывать ее действовать в этом направлении, она сама должна это делать. Меня это его выступление разочаровало. Получается, что это надо только ему, и никому больше не надо.
Но если об этом будет говорить только президент, а для всех остальных эта проблема не будет первоочередной, тогда ждать результатов на самом деле придется очень долго.